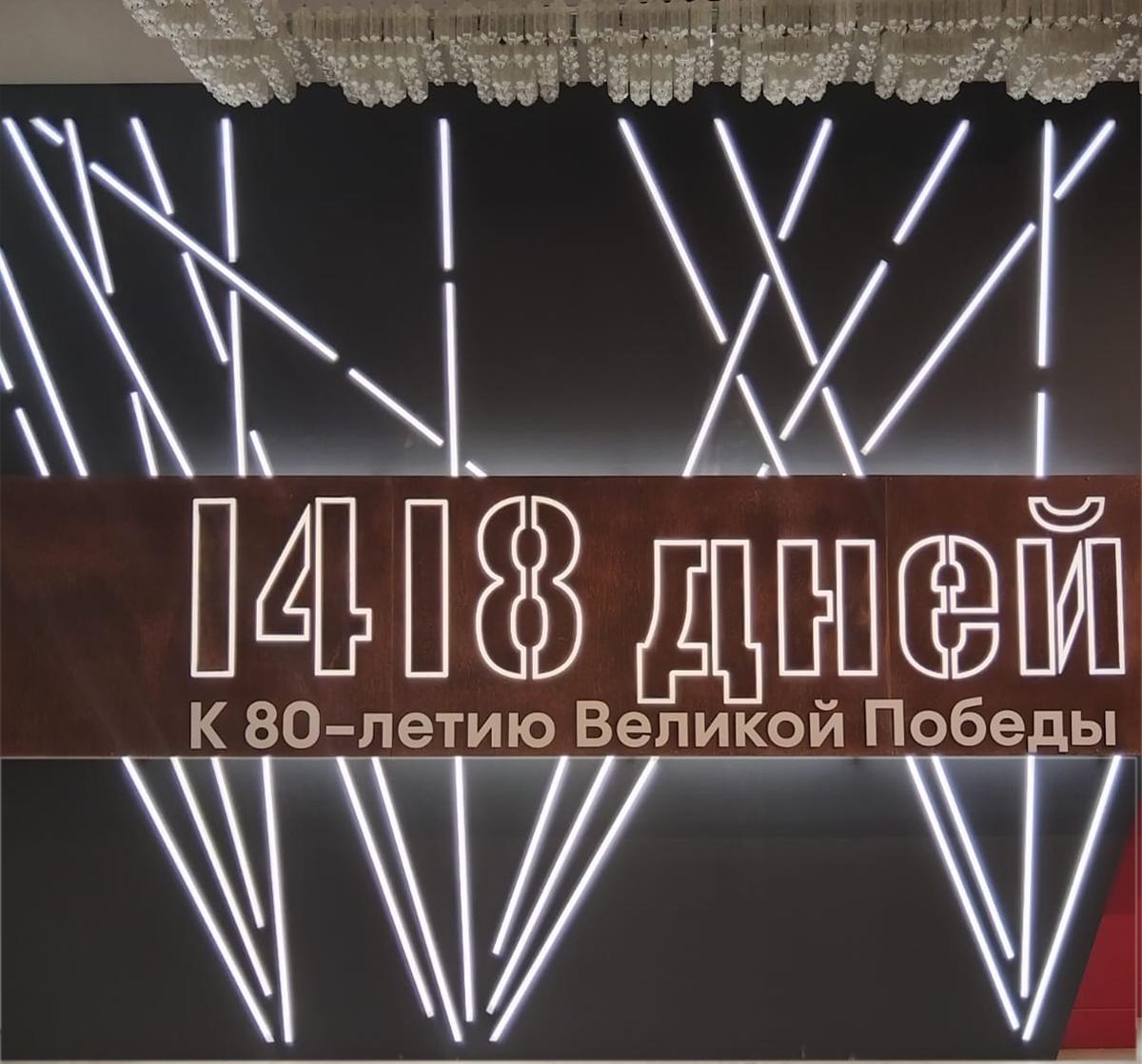 Между этими двумя парадами пролегло 1418 дней. Только первый состоялся в Москве 7 ноября 1941-го, а второй – триумфальный – 24 июня 1945-го.
Между этими двумя парадами пролегло 1418 дней. Только первый состоялся в Москве 7 ноября 1941-го, а второй – триумфальный – 24 июня 1945-го.
Огненные даты, огненные вёрсты…
Советские художники с первого дня – и это не эффектный образ! – с первого дня Великой Отечественной были мобилизованы своим творчеством на единственную и всепоглощающую тему.
Сначала – выстоять: ментально, физически. Потом – переломить ход войны, а значит, и истории и победно дойти до Берлина.
Плакат Николая Жукова так и назывался: «Выстоять!». Боец, раненный в руку, и потому прижал, видимо, уже безполезную винтовку со штыком локтем. Конец обрывка бинта сжал зубами, в другой руке – граната, которую он сейчас швырнёт во врага…
или взорвёт себя вместе с ней. Выстоять! Даже ценой собственной жизни…
«Родина-мать зовёт!» с плаката Ираклия Тоидзе пронизывающе смотрит на бойца – тогда, и на нас – сегодня. Художник начал работу над плакатом 23 июня, на второй день войны. В лице женщины, изображённой на нём, запечатлены черты жены художника именно в тот момент, когда она впервые услышала о начале войны. Это не просто художественное произведение, это несгибаемый Символ преодоления величайшей трагедии человечества в XX веке.
Люди, опалённые огнём войны. Вот на картине женщина тяжело опирается на руку, придерживая ею склонённую голову. И в этой позе нет никаких явных деталей, но сразу понимаешь, что здесь поселилось горе одиночества, неизбывной потери, горечь утраты. В этой картине Гелия Коржева собирательный образ скорбящей Матери. Сколько их было в ту годину – и не сосчитать…
А вот другая картина, наоборот, читается в деталях. Это Николай Ерышев и его «Май 1945-го». Комната со столом, накрытым красивой кружевной скатертью, на которой одиноко стоит бутылка водки и две рюмки. Отодвинут от стола пустой стул.
Пустой, потому что стул предназначен для хозяина семьи, который не вернулся с войны. Женщина, не встретившая своего любимого, накрыла стол для двоих и потерянно смотрит на наполненные рюмки, одну из которых так никто и не выпьет… А за окном вздымается огненными трассами салют в честь Победы. Картина написана в 1969 году, но горестное эхо войны не отпустило эту женщину даже через десятки лет.
«Поле» – так называется картина Михаила Савицкого. Нива, потому что вокруг несжатая пшеница и некому убрать её созревший урожай. Но и поле брани, потому что здесь вместо жатвы хлеба – жатва смерти: яростная рукопашная, в которой нашим невозможно отступить и невозможно сдержать натиск врага. А налитые золотом колосья склонились в поклоне над павшими солдатами, принявшими «смертный бой не ради славы, ради жизни на земле», по прекрасным стихам фронтовика Александра Твардовского.
Многие из художников фронтового времени сами воевали. Борис Угаров 19-летним юношей ушёл добровольцем на фронт. Участвовал в освобождении родного Ленинграда от блокады. Смог на несколько часов вернуться домой.
И узнал, что мать попала под бомбёжку и, раненая, теперь в госпитале. Отец больше недели пролежал мёртвым в опустевшей квартире. Вот такое «Возвращение» написал на своём полотне художник Угаров.
«Прощай!» – сколько раз это слово неслось вслед уходящему на войну. Проводы, проводы… В деревне, ещё многочисленной с довоенной поры, женщины обнимают своих мужей, братьев, отцов, женихов, виснут на их руках, предчувствуя долгую тяжкую разлуку. Только вернись!
И другая, уже тихая картина: идёт новобранец с вещмешком за спиной, а вслед ему смотрит жена, сестра, любимая… Он, уже сделавший шаг в военное бытие. И Она, замершая в своей одинокой тоске, смотрит на его удаляющуюся фигуру. Вернись, родной! Только вернись! Это про них ахматовские строки: «… И та, что сегодня прощается с милым, пусть боль свою в силу она переплавит…»
Эмоциональная сила полотен художников военного времени была такова, что воздействовала даже на холодных политических деятелей той эпохи. По воспоминаниям очевидцев, пронзительная картина Аркадия Пластова «Фашист пролетел», с убитым после авианалёта прямо посреди поля маленьким пастушком, висела на Тегеранской конференции в 1943 году так, чтобы её постоянно видели перед собой Рузвельт и Черчилль, когда решились наконец на открытие второго фронта.
И он пришёл, победный май 1945-го! Об этом плакат Николая Жукова «Мы завоевали мир для народов – мы его отстоим». Ау, Европа, опомнись! Ты сегодня забыла своих освободителей, пусть же этот плакат напомнит тебе лица победителей фашизма, воинов Советской армии.
Среди них и «Весёлый солдат» – так в народе называли конкретного человека, прототипа солдата, запечатлённого на плакате Леонида Голованова. Это Герой Советского Союза, снайпер Василий Иванович Голосов. Здесь он изображён на фоне стены Рейхстага – «Дошли!». Но нет: Василий Иванович до Берлина не дошёл, погиб 16 августа 1943-го. А художник обессмертил его, дав ему шанс – почувствовать упоение Победы, пусть и на картине. Но в наших глазах он – живой и как победитель стоит у поверженного Рейхстага.
А его, наверное, однополчанин – после праздничного салюта танцует на площади с такой красивой, такой мирной девушкой с лёгкими волосами. Боец, хоть и орденоносец, а робеет, бережно держа руку девушки и боясь сбиться с ритма вальса…
Это всё картины Великой Победы – мужественные, полные гнева и ненависти к врагу. Но и лирические, показывающие великодушие и человечность русского солдата.
Вот такая выставка-переживание получилась у Третьяковки. Но ведь и сама галерея была в строю в годы военного лихолетья. Когда в её здание попали авиабомбы, власти решили срочно эвакуировать национальные сокровища вглубь страны – Пермь и Новосибирск. Отдельная благодарность – за сбережение величайшей святыни России – иконы Владимирской Божией Матери, которая вернулась в Москву, когда опасность миновала. Теперь она
находится в Никольском храме при Третьяковской галерее. А первая после войны выставка открылась в Третьяковке уже 17 мая 1945 года. Её главными посетителями стали герои Великой Отечественной.
Надежда Валентиновна ПАВЛОВА
