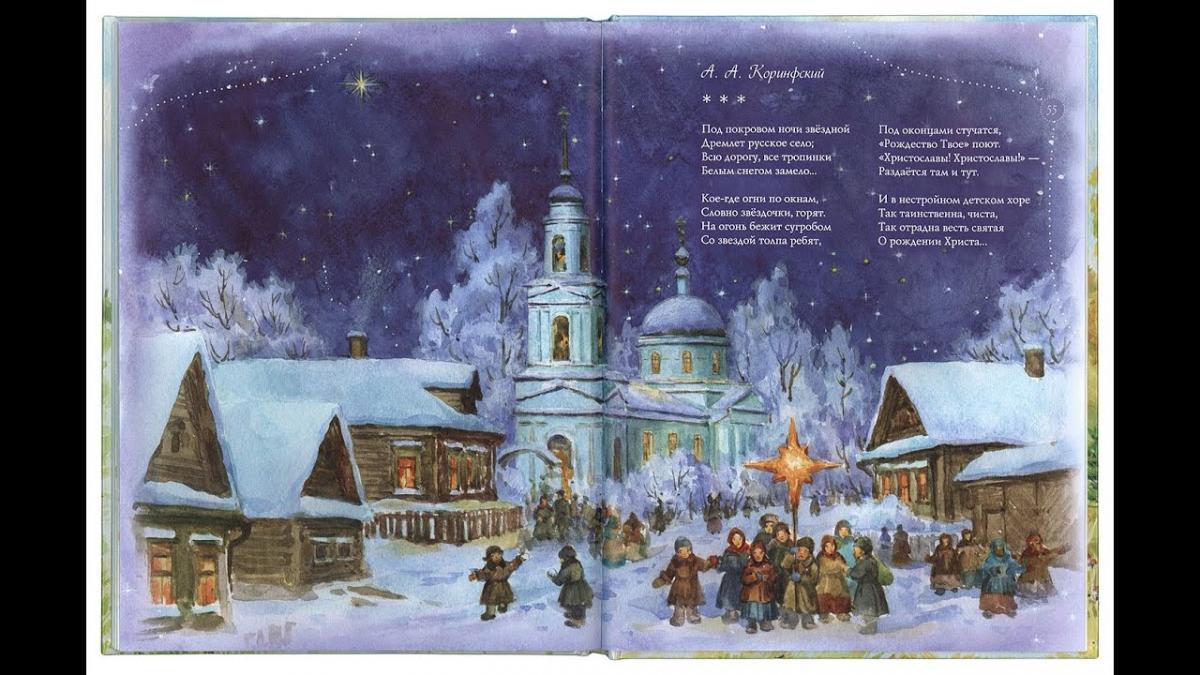 Да, в православной русской традиции, в противоположность католической, Пасха важнее Рождества. И религиозное переживание праздника Светлого Воскресения острее. Но и русская зима давно утвердила себя в качестве классического рождественского фона. Ёлки, а не пальмы, огромные сугробы, а не европейская изморось!
Да, в православной русской традиции, в противоположность католической, Пасха важнее Рождества. И религиозное переживание праздника Светлого Воскресения острее. Но и русская зима давно утвердила себя в качестве классического рождественского фона. Ёлки, а не пальмы, огромные сугробы, а не европейская изморось!
Кто придумал сказку «светского» Нового года – доподлинно известно. Пофамильно. Сергей Михалков, Владимир Сутеев, Лев Кассиль – сценаристы первых ёлок в Колонном зале.
Это случилось сравнительно недавно, в середине тридцатых годов ХХ века. Рождественская литературная традиция таинственнее. Молитвы, колядки, затем – беглые эпизоды в одической поэзии XVIII века и, наконец, XIX век, каноническая классика.
Первое, что отчётливо вспоминается – это, пожалуй, гоголевская «Ночь перед Рождеством». История с чертями и запорожцами. Рождество по-малороссийски. Кузнеца Вакулу можно встретить на новогодних открытках, а также в опере и в кино. Там всё завораживает, с самой присказки: «Последний день перед Рождеством прошёл. Зимняя, ясная ночь наступила. Глянули звёзды. Месяц величаво поднялся на небо посветить добрым людям и всему миру, чтобы всем было весело колядовать и славить Христа. Морозило сильнее, чем с утра; но зато так было тихо, что скрып мороза под сапогом слышался за полверсты». До Гоголя никто в русской литературе так смело и весело не перерабатывал фольклорные сюжеты. Он оседлал сказку, как Вакула – чёрта.
Рождество для Гоголя – пространство чуда, не только возвышенного, но и приземлённого. Бахтин писал: «Праздник, связанные с ним поверья, его особая атмосфера вольности и веселья выводят жизнь из её обычной колеи и делают невозможное возможным (в том числе и заключение невозможных ранее браков». «Вечера на хуторе…» и впрямь соответствуют бахтинской концепции «карнавала». Можно медленно читать и сравнивать.
Стихи к Рождеству в послепушкинское время появлялись ежегодно – в газетах и детских сборниках. Похоже, к ним не относились всерьёз. Лучший образец поэзии такого рода – фетовская вариация на тему 1842 года:
Ночь тиха. По тверди зыбкой
Звёзды южные дрожат.
Очи Матери с улыбкой
В ясли тихие глядят.
Ни ушей, ни взоров лишних, –
Вот пропели петухи –
И за ангелами в вышних
Славят Бога пастухи.
Напевно, традиционно, празднично и без трагических борений, свойственных христианству. Ну, в 1840-е это ещё не было расхожим штампом, но к концу века так сочинять научились и гимназисты. Следовало оживить традицию.
В череде «дежурных» сусальных рождественских стихотворений выделяется Владимир Соловьёв, не смягчавший трагизм христианского мироощущения:
Пусть всё поругано веками преступлений,
Пусть незапятнанным ничто не сбереглось,
Но совести укор сильнее всех сомнений,
И не погаснет то, что раз в душе зажглось.
А чуть позже символисты поставили на поток поэтическое богоискательство, и зачем-то стали пересказывать стихами историю, которая в те времена и без того была известна всем.
Они стали писать по-новому, но слишком быстро…
Был вечер поздний и багровый,
Звезда-предвестница взошла.
Над бездной плакал голос новый –
Младенца Дева родила.
На голос тонкий и протяжный,
Как долгий визг веретена,
Пошли в смятеньи старец важный,
И царь, и отрок, и жена.
Это Александр Блок. Плавно, музыкально, иллюстративно. Инерция этого стиха проявилась у многих стихотворцев. Существовал в России и жанр рождественского рассказа, святочной сказки. Тон задавали переводные новеллы Диккенса и Андерсена, которых русский читатель полюбил чрезвычайно. В 1876 году Достоевский пишет рождественский рассказ «Мальчик у Христа на ёлке», настоящий шедевр святочной литературы.
К сожалению, он редко писал рассказы, мыслил романами.
А тут вместил трагедию мира сего в несколько страниц. «У Христа всегда в этот день ёлка для маленьких деточек, у которых там нет своей ёлки… – И узнал он, что мальчики эти и девочки все были всё такие же, как он, дети, но одни замёрзли ещё в своих корзинах, в которых их подкинули на лестницы к дверям петербургских чиновников, другие задохлись у чухонок, от воспитательного дома на прокормлении, третьи умерли у иссохшей груди своих матерей, во время самарского голода, четвёртые задохлись в вагонах третьего класса от смраду, и все-то они теперь здесь, все они теперь как ангелы, все у Христа, и Он сам посреди их, и простирает к ним руки, и благословляет их и их грешных матерей… А матери этих детей все стоят тут же, в сторонке, и плачут; каждая узнаёт своего мальчика или девочку, а они подлетают к ним и целуют их, утирают им слёзы своими ручками и упрашивают их не плакать, потому что им здесь так хорошо…». Мальчик умирает. Рассказ переиздавали ежегодно. Популярным детским чтением он не стал, да и не мог стать, он предназначен для подготовленных читателей Достоевского.
Тут появляется и мотив «пира во время чумы». Для одних – иллюминация, шумные праздники во дворцах, для других – безприютный мороз, голод, гибель. Вот вам и «социальные мотивы». А как же без них в нашей классике с её критическим реализмом, который не был пустой выдумкой литературоведов?
Фёдор Михайлович слагал и стихи. Складности и плавности не добивался – как, впрочем, и в прозе. Тем и интересен, что писал не по трафаретам. «Читал твои стихи и нашёл их очень плохими. Стихи не твоя специальность», – писал ему брат. Но они тем и примечательны, что то и дело переходят в бормотание. Есть в этих стихах наивная, неогранённая сентиментальность – на грани пародии:
Крошку-ангела в сочельник
Бог на землю посылал:
«Как пойдёшь ты через ельник,
– Он с улыбкою сказал, –
Ёлку срубишь, и малютке
Самой доброй на земле,
Самой ласковой и чуткой
Дай, как память обо Мне».
1854
Как и стихи капитана Лебядкина, эти строки аукнутся в детской и в абсурдистской поэзии ХХ века. Кроме того, «Божий дар» Достоевского до сих пор остаётся в школьном чтецком репертуаре.
Пожалуй, лучшее описание Рождества в ХХ веке – ностальгическое «Детство Никиты» Алексея Толстого. Это утончённая идиллия. Как подробно и влюблённо жизнелюб Толстой описывает подготовку игрушек, счастливый ритуал Рождества, когда дети «стонут от восторга»: «В гостиную втащили большую мёрзлую ёлку. Пахом долго стучал и тесал топором, прилаживая крест. Дерево наконец подняли, и оно оказалось так высоко, что нежно-зелёная верхушечка согнулась под потолком. От ели веяло холодом, но понемногу слежавшиеся ветви её оттаяли, поднялись, распушились, и по всему дому запахло хвоей. Дети принесли в гостиную вороха цепей и картонки с украшениями, подставили к елке стулья и стали её убирать.
Но скоро оказалось, что вещей мало. Пришлось опять сесть клеить фунтики, золотить орехи, привязывать к пряникам и крымским яблокам серебряные верёвочки. За этой работой дети просидели весь вечер, покуда Лиля, опустив голову с измятым бантом на локоть, не заснула у стола». Это написано в неидиллические двадцатые годы. Тогда многие вспоминали детство, у Толстого это выткалось образцово.
У Бориса Пастернака в довоенные годы христианские мотивы возникали в стихах нечасто. Трудно было предсказать, что его потянет к «архаике». Маска Юрия Живаго – героя романа – позволяла уйти от реальности. Впрочем, Пастернак давно научился убегать от неё в фундаментальные переводы, в Гёте и Шекспира… Он не просто обращался к новой для себя эстетике, менялось мировоззрение поэта:
Стояла зима.
Дул ветер из степи.
И холодно было Младенцу в вертепе
На склоне холма.
Его согревало дыханье вола.
Домашние звери
Стояли в пещере,
Над яслями тёплая дымка плыла.
Так и сложился канон рождественского стихотворения в ХХ веке. Тёплого, но не горячего.
На пике антирелигиозной пропаганды начал «вослед Пастернаку» писать рождественские стихи Иосиф Бродский.
Это была многолетняя литературная акция, о которой он охотно рассуждал: «У меня была идея в своё время, когда мне было 24–25 лет… на каждое Рождество писать по стихотворению… Это был 1972 год…». Надо отдать ему должное: идею почти удалось воплотить. А начал Бродский даже раньше: в 1962-м написал знаменитый «Рождественский романс», в котором, правда, евангельской фактуры почти нет.
К тому времени он ещё и Библии не читал. Но уже через год появилось стихотворение, перенасыщенное библейскими знаками:
Спаситель родился
в лютую стужу.
В пустыне пылали пастушьи костры.
Буран бушевал и выматывал душу
из бедных царей, доставлявших дары.
Верблюды вздымали лохматые ноги.
Выл ветер.
Звезда, пламенея в ночи,
смотрела, как трёх караванов дороги
сходились в пещеру Христа, как лучи.
Это своеобразный архаический манифест, который в 1963 году воспринимался как вызов. О первых космонавтах поэты тогда вспоминали гораздо чаще, чем о героях Евангелий, а популярность христианской эстетики зародится в интеллигентской среде ближе к началу семидесятых. Определённо, Бродского заворожили «Стихотворения Юрия Живаго». Хрущёв обещал вот-вот предъявить обществу «последнего попа», а доблестный тунеядец голосом пономаря повторял библейские имена как заклинание.
Бродский принялся писать не менее «нездешние» стихи, чем Пастернак от лица Живаго. Это помогало избежать любых проявлений советской конъюнктуры, которой поэт боялся панически. Он своего добился: рождественские стихи были несовместимы с журнальной конъюнктурой того времени.
Снобизм по отношению к советской реальности стал поводом к библейскому циклу. В лучших рождественских стихах Бродского больше городской круговерти ХХ века и меньше многозначительных библейских перечислений:
В Рождество все немного волхвы.
В продовольственных слякоть и давка.
Из-за банки кофейной халвы
Производит осаду прилавка
грудой свёртков навьюченный люд:
каждый сам себе царь и верблюд.
Тут скорее – панорама предновогодней, а не рождественской ленинградской суеты, хотя без евангельской символики не обошлось: когда Бродский остаётся в музейном пространстве древнего Вифлеема – он лишь повторяет мелодии и ритмы Юрия Живаго. Получается хладнокровнее, чем у Пастернака.
А лучшее стихотворение о Рождестве, на мой субъективный взгляд, написал Мандельштам. Он обошёлся без риторики, без «художественного пересказа». Да и неровное получилось произведение. Неровное и нервное. Восемь строк, обрывочное повествование. Зато настоящие стихи:
Сусальным золотом горят
В лесах рождественские ёлки,
В кустах игрушечные волки
Глазами страшными глядят.
Такие строки, прочитав, уже не позабудешь. Хотя написаны они не для хрестоматий.
Арсений Александрович ЗАМОСТЬЯНОВ
