
26 июля – день ВМФ
Прошло чуть больше полвека, как отслужил я четыре года семнадцать дней на боевых кораблях Краснознамённого Северного флота. А перед корабельной службой восемь месяцев учился в электромеханической школе на машиниста-турбиниста. Своему начальству я часто напоминал, что был на гражданском флоте матросом первого класса, рулевым на судах загранплавания – лучшим рулевым Азовского управления Черноморского пароходства. Зачем же мне быть машинистом, если я готовый рулевой? «Стране требуются машинисты-турбинисты» – и всё тут.
Запомнились шлюпочные походы и боевые тревоги на эсминце «Несокрушимый», где команда сто пятьдесят человек, и на крейсере «Железняков» с командой две тысячи. А когда выходили в дальние походы, то с курсантами и практикантами около четырёх тысяч. Естественно, в лицо всех не запомнишь. Однажды с ребятами с эсминца сидели в ресторане «Арбат». Это были где-то 1967–1968 годы. Он только открылся. Наелись-напились, попросили счёт. Официант подошёл и ошарашил: «Я со своих денег не беру!» – «А кто свои?» – «Вы. Я с вами служил на крейсере “Железняков”».
Шлюпки на эсминце намного меньше, чем на крейсере. Вёсла на эсминце – восемь килограммов, а на крейсере – двенадцать-четырнадцать. Вёсла надо брать голыми руками, без рукавиц. В рукавицах весло выскальзывает. А если внезапно налетит бриз – брызги гвоздями впиваются в лицо, в оголённые руки, ладони наполняются волдырями, а грести-то надо. Волдыри превращаются в водянки, которые от соприкосновения с веслом лопаются и превращаются в кровянки. Кровь стекает по ладоням, а остановиться нельзя, надо догрести до трапа корабля. Эсминец стоит у причала. Крейсер – одиннадцать метров осадки – к причалу не подходит. Он стоит на бочке. Бочка огромная, покрашена в красный цвет суриком и стоит на мёртвом якоре. Как медицинская банка присасывается к спине больного, так и мёртвый якорь впивается в грунт навечно. Так крейсер и стоял годами посреди Кольского залива. Его уже давно порезали на иголки. Но сначала эсминец «Несокрушимый», там команда в десять раз меньше, чем на крейсере.
Как сейчас помню: четыре часа утра, колокола громкого боя так пронзительно звонят, что мы, матросы, волной слетаем с коек, и тут же зычный голос командира: «Команде построиться по левому борту, форма одежды – химкомплект, противогаз!» На свою бело-серую робу я должен надеть химкомплект из толстой резины и на голову противогаз. Построились. Перед строем появился командир корабля и провозгласил: «Товарищи матросы и офицеры, мы выполняем правительственное задание. Если нас потопят, из-за нас война не начнётся!» Эти железные слова-гвозди полвека торчат в моей голове. Но тогда, осенью 1964 года, мы на них не обратили особого внимания.
Уже на крейсере, служа по четвёртому году, смотрю на корму, а там два молодых матроса дерутся в кровь. Подхожу: «А ну прекратить, зелень подкильная». Они вытаращили глаза свои свирепые. Ору: «Вы что ведёте себя, как бандеровцы!» Они на самом деле оказались с Западной Украины. Фамилию одного из них я запомнил – Гуменюк. Внезапно подошёл, как подкрался, мичман Ряжечкин, сверхсрочник, ненавидящий меня за мои многочисленные «преступления»: я не просто писал стихи, их печатали в газетах «На страже Заполярья», «Комсомолец Заполярья», в журнале «Полярное сияние». Как же они оказывались в печати? На берег мичман меня не отпускал, но каждый день под вечер к нам пришвартовывался «водолей» – баржа с водой. Я перелезал за борт и ходил в литобъединение при газете «На страже Заполярья». В то время мурманской писательской организацией руководил Борис Романов, бывший капитан дальнего плавания, а я матрос 1-го класса, рулевой на судах дальнего плавания, и мы, естественно, подружились. Так стихи и оказывались в печати.
А некоторые распространялись в рукописи: «Эй, ты, гой еси, мичман Ряжечкин, что ты, старый хрен, придираешься…» Короче, мичман договорился с начальником гауптвахты, что даст ему много разной корабельной краски, только бы он согласился взять на довольствие непослушного матроса, публиковавшего во флотской печати стихи. «Какое ты имеешь право, матрос? Служить надо, а не стихи писать». Я, видимо, единственный матрос, который просидел на гауптвахте пять суток. Потому что если дают пять суток, то добавляют ещё пять, если десять, то как минимум ещё пять. Меня сидящие там зауважали, я им свои стихи читал: «Туманом-брезентом покрыты эсминцы в походном строю, слепыми штормами умыта броня, на которой стою…» Или: «Знаю до мельчайшего шурупа механизмы, где я вахту нёс, магистральку каждую прощупал, в трюме шхеру каждую прополз…» (Потом эти стихи будут напечатаны в журнале «Юность».)
Идём сутки, идём вторые. Исполняем привычные команды. «Пробоина в правом борту». «Пробоина в левом борту». «Пожар в машинном отделении». Корабль качает из стороны в сторону бортовой качкой, то есть с правого борта на левый и наоборот, килевой – с носа на корму. А когда с кормы на нос, корабль врезается в волну, а тут ещё настигает и бортовая качка, корабль дрожит, как разъярённый медведь, нарвавшийся на преграду. Все надстройки на верхней палубе обвязаны шкертами, линями, то есть верёвками, за них можно схватиться при необходимости, чтобы не смыло за борт.
Обед или ужин отменяются: нельзя с камбуза принести бачок с первым и вторым. А тут ни с того, ни с сего из первой машины выскочил худощавый матрос, чуть ли не руки в брюки, корабль как задрожит, матрос упал. Океанская волна накрыла его. Волна исчезла, и матрос исчез. Я знал, что он москвич, но не все же городские умеют плавать. А мне старший брат-фронтовик с детства внушил, что я сначала плавать научился, а потом уже ходить. Так что я хоть и в химкомплекте был, но утонуть не мог и, естественно, кинулся в ледяную воду. «Человек за бортом!» – прозвучала команда. Бросили спасательный круг. Опустили на воду корабельный трап. Как только мы его коснулись, нас тут же схватили крепкие матросские руки, вытащили моего утопленника, а потом и меня. В медпункте влили в глотку полстакана спирта, и мы чуть-чуть согрелись. Спасённый оказался сыном члена ЦК, который мне потом помог получить квартиру.
Чувствуем, зашли из Баренцева моря в Северное. И тут через некоторое время над головами рёв, как будто студебекер увяз в болоте. Оставив маневровое устройство сменщику, приоткрыл бронированную дверь и ахнул: над мачтами снижаются огромные тяжёлые бомбардировщики и на бортах написано NATO. А чуть подальше стрельба, взрывы. И тут озарило: шестой американский флот испытывает новое оружие. Вот почему нас послали на смерть: «Если нас потопят, из-за нас война не начнётся». Мы по закону не имели права здесь находиться, но надо было зафиксировать, какое оружие они применяют и чем оно отличается от нашего. Нас пугали, в нас стреляли, мы горели, но не уходили. Точно помню, никогда не забуду: иду на «полный вперёд» и вдруг сразу «средний назад». Я своими маневровыми колёсами всё как надо отработал. По корабельной трансляции командир объявил: «Маневристу второй машины десять суток отпуска». Плюс к своему сорокапятисуточному, который даётся после трёх лет службы.
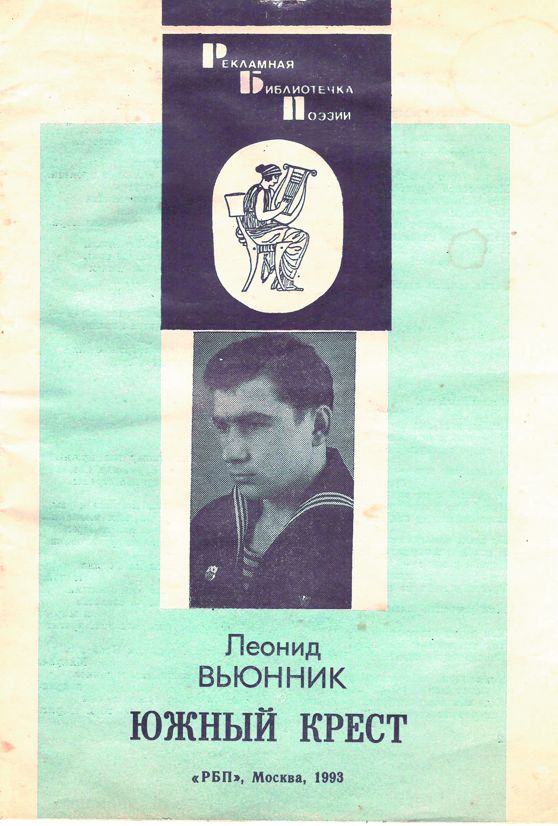
Потом я узнал, что на самом деле случилось. Носы наших эсминцев, сторожевых кораблей, крейсеров – острые. У американских фрегатов – тупые, как у бульдогов. Один «бульдог» шёл на мой эсминец. И я, маневрист второй машины, с «полного вперёд» на «средний назад» развернул корабль, и удар американского фрегата пришёлся по касательной. Если бы мы столкнулись, то двадцатикилограммовые снаряды, которые я сам на руках носил, сдетонировали, и мы все взлетели бы на воздух. Поэтому и десять суток отпуска. В отсеках слышалось: «Герой! Герой! Ну, молодец, во хто герой!»
Поход прошёл в общем нормально. Нас всех наградили медалью «За дальний поход». Не каждый адмирал имеет такую награду. Наш эсминец, как и другие «раненые» корабли, направили вокруг Европы, через Гибралтар и Босфор в город-порт Николаев на капитальный ремонт и ракетное переоборудование. В Гибралтаре, где ширина пролива километр-полтора, меня затащил в свою каюту комсорг Носенко Валентин, достал пистолет и сказал, что всем офицерам, а он хотя и старшина 1-й статьи, но как комсорг относится к офицерскому составу, дали приказ: если кто-то попытается прыгнуть за борт, чтобы сбежать за границу, стрелять.
– Так что я могу тебя сейчас пристрелить, и мне ничего не будет.
– Что ты хочешь? – спросил я его.
– Ты же сын бойца Первой конной, вступай в партию.
– Я бы вступил, но я не достоин, – честно ответил я. На самом деле я так и думал.
...Прошло пять десятилетий. Зазвонил телефон. В трубке кто-то читает мои стихи. Знаю, что стихи мои. Но где напечатаны, не помню. «Носенко Валентин, комсорг эсминца “Несокрушимый”». Оказывается, в интернете есть данные всех членов Союза писателей СССР. Я-то с Чёрного моря попросился на Север, так как должна была выходить моя первая книга стихов. А он остался на эсминце. В общем, приехал ко мне. Вспомнили службу. Он-то больше подкован, чем я. Пошёл по партийной линии. Перевели в Москву. А я по литературно-издательской линии. Начал с младшего редактора, закончил директором издательства Московской городской организации Союза писателей России.
В общем, в 1964 году дипломатическая разведка доложила: шестой американский флот в Северном море, в нейтральных водах, будет испытывать новое оружие, всё оформлено как очередное учение. Поэтому несколько быстроходных эсминцев, в том числе и мой, послали на разведку. И хоть мы по международному соглашению не имели права подходить к ним на несколько десятков миль, но надо. То, что корабль горел, я видел. То, что три матроса погибли, сказал мне Валентин. А если бы всё было нормально, зачем же посылать вокруг Европы на ремонт?
А в голове застряло навечно: «Если нас потопят, из-за нас война не начнётся».
Леонид Иванович Вьюнник
